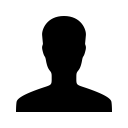Осетинский арбуз
- Автор Внештатный автор
Сладким был даже не сам арбуз — хотя, конечно, именно арбуз, его состоящая из сахарных икринок мякоть, — а то ощущение исхода лета, которое возникало тут же, как только в доме появлялся первый астраханский или азербайджанский гость. Его приносил отец, предварительно долго выбирая, перекатывая тяжелые полосатые шары в багажнике серой «Волги», припаркованной у входа на рынок.
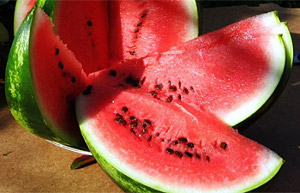
Арбуз водружался в центре стола. Для маленького мальчика, ходившего вокруг, он смотрелся глобусом с неаккуратно нарисованными жирными полосками меридианов. Мальчику было отчего-то жалко, что вот совсем скоро эту огромную ягоду (подумать только — ягоду!) разрежут, поделят на дольки.
Володька, говорил ребенку отец, человек с огромными мирными руками, ты самый маленький, поэтому тебе причитается самая большая долька. И мальчик радовался, хлопал в ладоши, моментально забыв о недавней жалости к арбузу. Так был устроен его детский мир, не ведавший повседневных бытийственных антиномий.
Потом неспокойное праздничное возбуждение, вызываемое арбузом, ушло. Так же, как исчез вслед за детством (вместе с ним) волнующий аромат новогодней елки, свежесть и новизна хвои, щекотавшие нос и из-за этого похожие на свежесть и новизну аромата арбузной корки.
Володька вырос и, достигнув самостоятельного возраста, потянулся на юг, влекомый теплокровной жаждой солнечной щедрости. Там, среди жилистых людей, он нашел себе дело по перемещению овощных и фруктовых тяжестей, напоенных теплом плодородной земли.
В урожай арбузов было «хоть жопой ешь», как выражался угрюмый бригадир-узбек, обрусевший на астраханских просторах. Столько Володька никогда и не видел. Грузили фурами, плотно наталкивали, впритык, впритирку друг к другу, и отправляли в централь-ную Россию для удовольствия малохольной, лишенной собственной сельскохозяйствен-ной земли публики.
Сами же есть арбуз целиком брезговали. Его раскалывали — он раскрывался, как цве-ток. Опадавшие по краям лепестки выбрасывали, ели только сердцевину, самое сладкое — называли это Дюймовочкой. А на зиму прятали арбузы в бочку с зерном, опускали эту бочку в земляной подпол деревянной мужской халупы, чтобы на новогоднем празднестве отведать избыточного в урожай, но редкого зимней порой угощения.
Иногда Володька все-таки думал — думал всерьез, как и зачем его сюда занесло. Хо-тел ли он пустить благодарные корни в эту отзывчивую землю, или обратно — его манило южное непостоянство, всегдашняя игра света и тени. Все здесь было по-другому, не так, как дома: солнечное густое вино в непрозрачных бутылках, изнуренность кожных покровов, слепящая яркость равнинных территорий. Ему здесь нравилось, но он еще не понимал своей жизни в этих краях, своей причастности новому для себя миру.
Когда разразился грузино-осетинский конфликт, Володька перепутал политическую истерию с патриотическим пафосом и оказался в числе добровольцев-ополченцев на пути к границе, за которой жил чужой, неведомый ему народ.
Волна шла по всей стране. Два друга Володьки по малой родине пьяные ночью ломились в двери своего районного военкомата, чтобы их пустили «пострелять грузин». Об этом они сами рассказывали ему по телефону, давая понять, мол, мы с тобой, это и наша война. Володька не понимал их, не понимал себя, не понимал, зачем война.
По железным дорогам южного направления стояли поезда, груженые бронетехникой. От них почему-то веяло холодом, а не волновым теплом, как это бывает, когда солнце раскаляет транспортный металл. Володька смотрел на эти поезда с неведомо откуда взявшейся грустью по своей родной средней полосе, где он видел только расшатанные пассажирские составы.
C поездов, груженых бронетехникой, спрыгивали угрюмые солдаты, закуривали в сторону. За паутиной треснувшего стекла вдруг промелькнуло человеческое, не грубое, лицо. Странное слово «миротворец» никак не хотело вязаться в Володькиной голове со словом «солдат». А самой войны пока не было видно.
Она пришла к нему неожиданно — не так он ее себе представлял. Война сомкнулась для Володьки в один образ, в видение, являвшееся к нему впоследствии не раз. В Горий-ском районе Шида-Картли он впервые увидел смерть от войны. Человек — смерть не со-хранила примет, солдат он был или не солдат, а мирных в те дни не было вообще (земля грабов превратилась в землю гробов) — лежал куском тела, разорванного фугасным сна-рядом. И это вывернутое наружу красное мясо с черными опалинами от жесткого взрыв-ного огня против воли и против логики напомнило Володьке плоть арбуза, сочащуюся красноикорную мякоть с твердыми вживлениями черных косточек.
Это зрелище не испугало Володьку. Наоборот, в нем проснулось какое-то детское желание умереть, желание подчиниться красоте смерти, незаметно для него ставшей красотой кавказского пейзажа.
Володька вдруг понял — наконец понял! — почему русский человек всю свою историю воюет на Кавказе, за что отдают жизни простые солдаты, не ведающие верховных целей. Русский человек не может жить на Кавказе, но волен здесь умереть. Среди тепла и красоты, щедрого тепла и любвеобильной красоты, в укор своей холодной, недолюбившей его родине. Володька увидел себя среди этих гор и этого неба — отныне и навсегда не смог отделить себя от них. У него во рту с силой вскипал призывный вкус крови.